«Аристократические корни»
Никаких дворянских корней у меня нет! Мой отец с малолетства трудился на Путиловском заводе и был квалифицированным рабочим пушечного цеха. Правда, его мама была замужем за англичанином, но и тот, видимо, был не лорд. Англичанина этого я никогда не видел. Каким ветром его занесло в Россию? Он погиб ещё до моего рождения, погиб нелепо: под паровозом, на котором работал. Об этом мне рассказывала бабушка. А вот её я помню прекрасно. Статная красавица. Осталась одна с детьми, обоих поставила на ноги. Мама же моя — костромчанка. Отец её занимался торговлей. Вот такие у меня «аристократические» корни.
У меня было великолепное детство. Мы жили в Петербурге на Московско-Нарвской заставе. На нашей улице стояло всего три дома. Наш — самый крайний, рядом с Екатерингофом. Я ходил гулять в этот роскошный малолюдный парк. Помню чудесные пруды, дворец петровского времени, бот. Всё там дышало эпохой Петра I. Этот парк мне снится до сих пор. Мы жили в частном доме. Отец купил в нём квартиру из трёх комнат. Квалифицированный рабочий-оружейник, он получал приличные деньги — 280 рублей золотом. Я помню хозяина нашего дома. Помню дворника — очень красивого мужчину с бородой, всегда в белоснежном фартуке. Он следил за порядком, и у нас всегда была идеальная чистота. Когда начались революционные бои, мы с отцом вышли из дома — у ворот стоял дворник. Мимо одна за другой пролетали пули. Вдруг — раз! — и дворника не стало, на моих глазах его убила шальная пуля. Это моё самое сильное впечатление от революции.
Евгений Самойлов, 1955 год. Фото: РИА Новости
Отец всегда был абсолютно лысым. Как-то я спросил, почему у него не растут волосы. И он рассказал, что вместе с Гапоном ходил к царю и, когда начался расстрел, он со страху залез на столб. Это его спасло, но на нервной почве он потерял волосы навсегда.
Он очень любил литературу. И всю жизнь с каждой получки обязательно покупал книги. В конце концов собрал огромную библиотеку. Усаживал нас с братом за обеденный стол под зелёной лампой и читал нам либо Тургенева (особенно он любил «Бежин луг»), либо Гоголя — начиная от «Вия» и кончая «Мёртвыми душами». Монолог о дороге я помню с детства. Ещё отец увлекался театром. Однажды выстоял гигантскую очередь, чтобы попасть на Шаляпина. Постоянно ходил в Александринку, когда я подрос, стал брать и меня. Ещё школьником я посмотрел «Дни Турбиных», с которыми приезжал МХАТ. Не привезли декорации, актёры извинились и стали играть в стульях. Но впечатление было грандиозное! К моему решению стать актёром отец отнёсся вначале настороженно. Но потом увидел меня на сцене — и благословил.
Репродукция кадра из фильма «Неоконченная повесть» режиссера Фридриха Эрмлера, 1955 год. Актеры Элина Быстрицкая — участковый врач Елизавета Максимовна Муромцева и Евгений Самойлов — врач-невропатолог Александр Денисович Аганин. Фото: РИА Новости
Биография
Из школьных предметов юный Самойлов любил только рисование и литературу. Тяжелее всего ему давались точные науки и немецкий язык. Художественный талант Евгений унаследовал от отца и дяди по материнской линии. Он мечтал превратить рисование в дело всей жизни, планировал поступать в Академию художеств. В свободное время, а иногда и прогуливая школу, Самойлов пропадал в залах Русского музея и Эрмитажа.
В 1928 году школьный приятель уговорил его за компанию пойти на прослушивание в частное художественное училище, организованное театральным актером Н. Н. Ходотовым. К своему удивлению, Евгений Валерианович был принят, другу же отказали. Так постепенно театр и актерское мастерство полностью завладели вниманием Самойлова. После школы он пошел учиться в Ленинградский художественный политехникум.
Молодого актера заметил известный режиссер Леонид Вивьен и в 1930 году пригласил в свой «Молодежный театр». Так начался творческий путь Самойлова в театре, а чуть позднее – и в кино.
«Артистом стал случайно»
В школе я учился плохо. Особым кошмаром для меня были немецкий язык и математика. Я любил только два предмета — литературу и рисование. Частенько наведывался в Эрмитаж и Русский музей. Приходил ранним утром и проводил там весь день до закрытия. Иногда и школу прогуливал. Собирался поступать в художественную школу. Но мой школьный товарищ, проведав, что на Литейном есть частное училище Ходотова, бывшего артиста императорских театров, уговорил меня пойти за компанию сдавать экзамены. Вывесили списки — меня приняли, а его нет… Всё преподавание Николая Николаевича Ходотова заключалось в том, что он нам читал и читал, а мы должны были учиться читать так же.
Статья по теме
Одна муза на двоих. Зинаида Райх, Есенин и Мейерхольд
Я стал часто ходить в Александринский театр. Видел Юрьева, Горина-Горяинова, Корчагину-Александровскую, Певцова, Мичурину-Самойлову. Очень любил Николая Симонова. Так искусство театра поглотило меня целиком. Ходотов приглашал к себе Леонида Сергеевича Вивьена. А тот организовал «Молодёжный театр» в бывшей Голландской церкви. Взял туда и меня — я играл там характерные роли.
В театр Мейерхольда я попал случайно. Брат Всеволода Эмильевича, Борис Эмильевич, был знаком с родителями моей жены. Он и попросил Мейерхольда посмотреть меня. Мейерхольд был моим кумиром. Я видел все его спектакли, которые он привозил в Ленинград. Когда я пришёл к нему в гостиницу «Европейская», то так оробел, что слова не мог сказать. Он расхохотался и сразу предложил мне пойти в его театр — дал роль Пети в «Лесе».
Всеволод Эмильевич был человеком огромного обаяния. Всегда очень элегантно одевался, очень энергичный, подвижный. В процессе репетиции он раз шестьдесят выбегал на сцену. Всё бегом! Начинал репетировать в свитере или в пиджаке, а кончалось тем, что он оставался в одной мокрой рубашке.
Статья по теме
Великий хамелеон. Знаковые роли Эраста Гарина
А потом ГОСТИМ закрыли. Мы готовили к выпуску «Как закалялась сталь», где я играл Павку Корчагина. Началась генеральная репетиция. Ждали Шумяцкого, возглавлявшего отдел искусств. Он вошёл в зал в галошах, не сняв ни пальто, ни головного убора. Мы играли для него одного. Спектакль не выпустили. Сочли его слишком пессимистичным. Это была прелюдия разгрома. Когда театр закрыли, для меня это было колоссальным ударом. Я был ошеломлён. Помню собрание, на котором актёры, воспитанные Мастером, выступали один за другим с разгромными речами. Промолчали только два человека: Эраст Гарин и Игорь Ильинский.
«Работать с Довженко было счастье»
На генеральной репетиции спектакля «Как закалялась сталь» присутствовал ассистент Александра Довженко, искавший актёра на роль Щорса. Он предложил мне приехать в Киев и попробоваться. Я поехал, и Довженко сразу меня утвердил. Работать с Александром Петровичем было счастье — очень талантливый мастер. Сделать фильм о Щорсе было заказом Сталина. Довженко рассказывал, что они долго гуляли по ночному Арбату и беседовали. Сталин хотел, чтобы в картине было много украинских песен и танцев. Он сказал Довженко: «Вы же видели картину „Чапаев“. Её все, от старика до малыша, поймут сразу. А вы сделайте такую картину, чтобы надо было задумываться».
Евгений Самойлов в роли Щорса на съемках кинофильма «Щорс» режиссеров Александра Довженко и Юлии Солнцевой. Фото: РИА Новости
Кстати, я совершенно не был похож на Щорса, но Довженко от меня не требовал сходства с ним. Мне сделали бородку, как у него, и всё. Перед каждой съёмкой Александр Петрович проверял грим, кто как одет, всё ли сделано так, как нужно. Если вдруг во время съёмки замечал, что косит карниз или дверь, то прекращал её и требовал поправить. Всё в кадре должно было быть идеально!
Так и во всём. Если актёр на репетиции делал что-то неверно, пока не добивался, чтобы тот нашёл нужную интонацию, снимать не начинал. Бывали случаи, когда он сам не знал, как снять сцену, и тогда мог в течение 10-15 дней сидеть на холме и снимать рожь. Как в этой ржи один казак догоняет другого. И так все пятнадцать дней.
Евгений Самойлов в фильме Юлии Солнцевой «Зачарованная Десна». Фото: РИА Новости
Над ним иногда подшучивали. Помню, как он, осмотрев меня, вызывал Лёню Хазанова и говорил: «Лёнечка, сегодня, по-моему, не та борода». — «Как так, Александр Петрович? Борода та же, что была вчера». — «Нет, не та». Лёня брал меня под руку, шептал: «Пойдём походим полчасика по павильону». Погуляв, мы возвращались, Лёня говорил: «Александр Петрович, я всё исправил». — «Вот это другое дело!» Своих помощников Довженко называл так: «Безруко-безногие-слепорождённые». На протяжении всего года только и слышалось: «Безруко-безногие-слепорождённые». И под конец они решили пошутить в отместку. Снимали сцену торжественного приёма, когда Щорс угощает командиров. Накрыли стол, заставили его хрусталём, а на краю помрежа навалили груду костылей и биноклей. Довженко по обыкновению всё придирчиво осматривает, наконец подходит к этой куче: «А это что?» — «Александр Петрович, это мы приготовили для слепорождённых-безруко-безногих». Как он обиделся! Ушёл и три дня на студии не появлялся.
Статья по теме
Немая поэзия Александра Довженко
Обычно Довженко говорил актёрам, как видит ту или иную сцену, и продолжал репетировать до тех пор, пока результат его не удовлетворял. Для каждого кадра снимали по 12 дублей. Плёнку не жалели, тратили столько, сколько было нужно. Сейчас такое невозможно, а тогда не экономили, ведь как-никак, а у Довженко был заказ «сверху», лично от Хозяина. И нужно было помимо исторических событий снять и народные песни, и танцы, помимо непосредственных боевых действий показать народ.
Снимать мы начинали с раннего утра. В восемь привозили на съёмочную площадку, гримировали, одевали, и до восьми вечера — съёмки.
Конечно, переносить это было тяжело, к тому же я ведь Щорса играл на русском языке, и тут же делался дубль на украинском. Я украинского языка, естественно, не знал, и мне дали преподавателей, которые подсказывали, как надо правильно произносить слова. Причём если я в чём-то ошибался, то украинский дубль переснимали ещё раз. Но ничего, молодой был, терпел. И даже так освоил украинский, что мог говорить на нём. Не такой и трудный язык.
Статья по теме
Истинное лицо лейтенанта Тучи. Каким на самом деле был Василий Меркурьев
Я до этого фильма никогда на лошадь не садился. И ко мне приставили тренера — военного, украинца, по-моему, бывшего офицера царской армии. Щорс ведь прекрасно владел верховой ездой. И вот мой наставник в специальном манеже учил меня ездить без седла. Чуть согну спину, он мне кричит: «Выпрямить спину!», — и хлыстом по моей спине! «Ничего, — кричит, — стопка за мной!» Так я и выучился. Овладел конём великолепно.
«Душа ушла в пятки»
ЗА «Щорса» я получил первую Сталинскую премию. Кстати, со Сталиным мне довелось общаться только один раз. Случилось так, что меня пригласили вести концерт в честь его 70-летия. У меня душа в пятки ушла. Я разрезал программу на кусочки. Название каждого номера наклеил на палец, а поскольку тогда мне ещё не нужны были очки, то я мог спокойно читать, чтобы, не дай бог, не ошибиться.
Народный артист СССР Евгений Самойлов в роли Ясона в спектакле Московского академического театра имени В. Маяковского «Медея» по трагедии Эврипида. 1961 год. Фото: РИА Новости/ Михаил Озерский
Режиссёром этого концерта был Григорий Александров. Он сам объявил первые номера, а потом уже начал я. Всё это происходило в Георгиевском зале Кремля. Столы стояли буквой П. Сталин и всё Политбюро расположились совсем рядом. Но они сидели к нам спиной, лицом к зрителю. Наступает мой черёд объявлять. Вокруг все едят, стучат ножами и вилками, и, чтобы заглушить шум, я набрал воздуха и гаркнул в полную силу, не заметив, что рядом микрофон. Сталин обернулся, посмотрел на меня и что-то шепнул Берии. У меня перехватило поясницу так, что я до сих пор страдаю от болей. Второй номер я уже объявил нормально. Когда концерт закончился, мне предложили сесть за специально отведённый стол — поесть, выпить, но у меня так болела поясница, что я сразу пошёл домой. Дома выпил литр водки, но остался абсолютно трезв…
Помню, что, когда он умер, я ехал в театр на троллейбусе и меня била дрожь, а все в троллейбусе рыдали. Потом я и ещё несколько человек от партбюро театра отправились на похороны. Я, как и все на Красной площади, стоял на коленях.
Евгений Самойлов. 1981 год. Фото: РИА Новости
Личная жизнь
Актер женился в 20-летнем возрасте. Его сердце покорила студентка инженерного факультета Ленинградского электромеханического института Зинаида Левина. Заключив брак в 1932 году, они прожили вместе 62 года. В 1994 году жена Евгения Самойлова скончалась.
Супруги воспитали двоих детей. В 1934 году родилась дочь, которую назвали Таней. Родители не предполагали, что их дочери уготована «звездная» судьба: роли в знаковых картинах, награды в Каннах и приглашение в Голливуд.
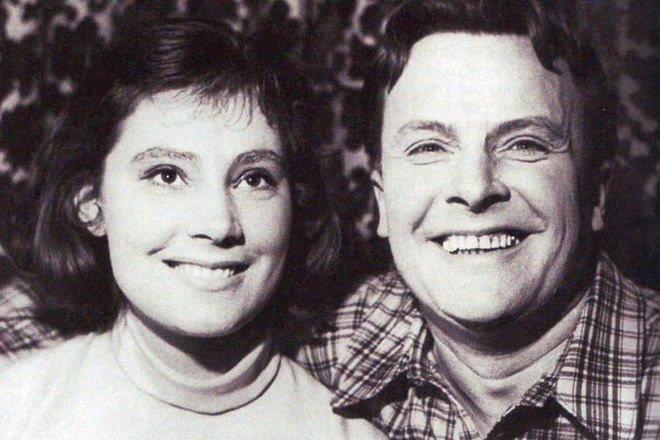
В 1945 году у пары родился сын Алексей. Он также пошел по стопам отца, но повторить славу его или сестры не смог. Отношения с Татьяной всегда были прохладными.
Актер Владимир Самойлов является однофамильцем Евгения Валериановича. Родственных связей между артистами нет.
Нутряки
65 лет я снимаюсь в кино, и сводила меня судьба в деле со многими достойными и талантливыми кинорежиссёрами. Но тех, кому могу поклониться до земли, только трое. Такого кино, какое создавали они, по-моему, уже больше никогда не будет.
Первым я назову Александра Петровича Довженко. Его философские высказывания, его поэтические размышления открыли мне, актёру тогда молодому, но уже познавшему театральные искания Мейерхольда, совершенно иной мир. И я устремился в этот мир, полный высоких нравственных чувств и романтических образов. Именно встреча с Довженко во многом определила мою актёрскую судьбу на несколько десятилетий вперёд.
Вторым в свой режиссёрский ряд я ставлю Ивана Александровича Пырьева, темпераментного, боевого, а для актёров — поистине отца родного. В начале 1944 года, в самый разгар войны, в холодных павильонах «Мосфильма» мы снимали лирическую картину «В шесть часов вечера после войны». Поразительно! До Берлина ещё было далеко, а Пырьев создаёт в фильме День Великой Победы, предугадывает, что этот долгожданный праздник придёт к нам весной, когда фронтовики снимут шинели и, сверкая боевыми наградами на парадных мундирах, обнимут жён и невест. И озарится огнями салюта майское вечернее небо над Кремлём. Предвидение Большого Художника — вот как я определяю финал музыкальной мелодрамы «В шесть часов вечера после войны», вышедшей на экраны страны в 1944 году.
Статья по теме
Они сражались за шедевр. Как создавалась лента «Они сражались за Родину»
А третьим режиссёром такого же масштаба, такой же самоотдачи, столь же наполненного любовью к народу сердца является для меня Сергей Фёдорович Бондарчук. Взяться за «Войну и мир» — ведь это же подвиг! Толстой — это могущество мысли и слова, и он, режиссёр, обращаясь к великой литературе, как бы вступал в диалог с Толстым, брал на себя смелость передать его могущество посредством языка кино. Грандиозная картина! И чем больше проходит времени, чем больше мы смотрим эту экранизацию главного русского романа, тем явственней убеждаемся в величии и мощи личности Бондарчука. Богом данный человек! Я не мифотворец, но, повторяю, я убеждён, что Сергей Фёдорович Бондарчук — Богом данный человек. И кажется мне, что он осознавал своё предназначение в земной жизни и нёс его подвижнически, просто и достойно.
Когда мне говорят: «Любил вас Бондарчук», я отвечаю: «Так и я его любил». Правда, мы никогда в этом друг другу не признавались. При встречах никогда не обнимались, не целовались. Сейчас поглядишь, в Государственной думе целуются, а потом и кулаки в ход могут пустить; в Академическом Малом театре, где я играю вот уже более тридцати лет, тоже целуются, а за спиной, бывает, чего только не выделывают. У нас же с Сергеем — только крепкое мужское рукопожатие, без сантиментов. Наше личное общение я бы определил двумя словами — мужественность и искренность. И вот это я никогда не забуду, это живёт в моём сердце и греет мне душу.
Статья по теме
Наталья Бондарчук: «Отца убили коллеги по цеху»
Есть в актёрской среде словечко — «нутряк». Это такой актёрский жаргон, так с уважительной интонацией говорят об актёре, который обладает редкостно тонким чутьём и вкладывает в роль весь свой душевный мир. Сергей Фёдорович — чистый «нутряк». Каждый воплощённый им образ он пропускал через себя, через своё сердце. А это человека сжигает. Но именно такая актёрская жертвенность и остаётся в памяти зрителей, во всяком случае, в памяти того поколения, к которому он принадлежал, и в памяти тех, кто работал рядом с ним.
А молодёжь… Не сочтите мои размышления за стариковское брюзжание, но, думается, я имею право огласить своё мнение. Не замечаю я в нынешнее время среди играющих главные роли в кино и телесериалах «нутряков». Сейчас молодые актёры научились играть только сыщиков или бандитов. И как такому менту-бандиту доверить Пушкина? Или Толстого? Или Достоевского? Что он будет с ними делать? И ещё в каждом современном фильме обязательно голые девушки. Разве такая «отчаянная» исполнительница сможет стать Наташей Ростовой? Или даже Мариной Мнишек? Происходит актёрская деградация. Понимают ли те, кто рвётся играть в фильмах про бандитов и сыщиков, что они выбрали профессию, принадлежащую культуре?! Если молодые артисты сегодня не защищены театральным репертуаром, в котором, слава богу, ещё живёт классическая драматургия, это — беда, если не полный профессиональный крах.
Народный артист СССР Евгений Самойлов в роли Пимена на съемках фильма «Борис Годунов» (режиссер Сергей Бондарчук). Фото: РИА Новости/ Юрий Иванов
С моей точки зрения, актёры, пережившие Великую Отечественную войну, пусть и не воюющие на передовой, были способны создавать на экране образы истинных героев! Потому что это время было временем всеобщей народной трагедии и личным человеческим горем каждого. В каждом здравомыслящем, талантливом актёре оно запечатлелось навсегда. Именно такие артисты и актрисы могли выразить в полной мере высоту и силу духа. Вот чему нас научила драма прожитых лет.
***
Я никогда не имел никаких ценностей — ни машины, ни роскошной дачи, ни шикарных костюмов. Я прожил эту жизнь с замечательной семьёй, с любимой работой. У меня нет врагов. Может, потому, что я никогда не сплетничал, не писал кляуз, никому никогда не завидовал и не делал зла.
Статья по теме
Трагедия Саши «Гарбо». История жизни актрисы Александры Завьяловой
Евгений Самойлов
Родился в 1912 году в Санкт-Петербурге в семье потомственного рабочего. Отец – Валериан Саввич мальчиком пришел на Путиловский завод и прошел путь от чернорабочего до мастера пушечного цеха. Мать – Анна Павловна вела домашнее хозяйство. Родители Самойлова погибли от голода в блокадном Ленинграде, отец похоронен в Братской могиле рабочих Путиловского завода. Супруга – Левина Зинаида Ильинична (1914–1994). Дочь – Самойлова Татьяна Евгеньевна (1934 г. рожд.). Сын – Самойлов Алексей Евгеньевич (1945 г. рожд.).
Благодаря родителям у Самойлова были счастливое детство и юность. Принципиальный, но не строгий отец, добрая, ласковая мама, светлый ангел-хранитель дружного семейства, в котором духовные интересы ценились выше материального достатка. Организатором и душой их общего досуга был Валериан Саввич, человек разнообразных увлечений: книголюб, театрал, художник-любитель. Именно отец привил сыну любовь к литературе, искусству. Самойлов-старший с юности собирал библиотеку, и по доброй традиции домашние собирались по вечерам слушать чтение им А.С. Пушкина, И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого. С особым воодушевлением отец читал произведения любимого им Н.В. Гоголя, будоража детское воображение. Повзрослев, Евгений чаще всего бывал в Александринском и Большом драматическом театрах, восхищаясь искусством И.Н. Певцова, Е.П. Корчагиной-Александровской, Ю.М. Юрьева, Л.С. Вивьена, Н.Н. Ходотова, Н.Ф. Монахова. Но самым большим увлечением юности была живопись. Евгений унаследовал семейные гены: брат матери хорошо рисовал, да и отец искусно копировал. Школьный учитель рисования, обнаруживший талант у Евгения, умело развивая его способности, пробудил серьезный интерес к живописи. Свободное время Евгений проводил в залах Эрмитажа и Русского музея, предпочтение отдавая художникам-передвижникам и своим любимым живописцам М.А. Врубелю, И.И. Левитану, В.А. Серову, мечтал поступить в Академию художеств.
Приятель, мечтавший о театре, уговорил его «за компанию» пойти на прослушивание в частную художественную студию Н.Н. Ходотова на Литейном. К своему изумлению, Евгений увидел в списках принятых свою фамилию, а не друга. Будучи еще учеником, в 1928 году он стал заниматься по вечерам в студии на актерском отделении. Преподавателями были актеры Александринского и Мариинского театров. Уроки мастерства вел Николай Николаевич Ходотов, корифей Александринки, показывая, как надо читать то или иное произведение.
В 1929 году Самойлов окончил среднюю школу ? 68 и после закрытия студии продолжил актерское образование в Ленинградском художественном политехникуме, завершив обучение в 1930 году. С этого года началась профессиональная деятельность Самойлова в Ленинградском театре актерского мастерства под руководством выдающегося режиссера, актера и педагога Л.С. Вивьена. Труппа состояла в основном из его учеников, и партнерами юного Самойлова были такие же молодые Юрий Толубеев, Василий Меркурьев. Вивьен видел в Самойлове характерного актера. Получая роли, подобные Кривому Зубу («На дне» М. Горького), начинающему артисту приходилось скрывать свою молодость за возрастным гримом и пластикой. Во многом ему помогала цепкая память рисовальщика. Со временем он играл и Актера, и Ваську Пепла («На дне» М. Горького), стремясь идти от внешней характерности к раскрытию внутреннего мира.
Первым заметным успехом артиста стал образ Председателя укома («Шторм» В. Билль-Белоцерковского). В апреле 1934 года в Ленинграде гастролировал Государственный театр имени Вс. Мейерхольда (ГосТИМ, ТИМ). В.Э. Мейерхольд побывал на спектаклях своего давнего соратника Л.С. Вивьена. Тогда же Самойлов получил приглашение Мейерхольда перейти в его труппу на амплуа молодого героя. Как ни тяжело было расставаться с Л.С. Вивьеном и молодежным коллективом, сплоченным духом студийности, покидать свой прекрасный родной город, свою семью, желание работать с Мейерхольдом было неодолимо.
Переехав в Москву, молодой артист оказался под отеческой опекой Всеволода Эмильевича Мейерхольда, когда месяц проживал в семье режиссера, и позднее, когда приехала Зинаида Левина, жена Е.В. Самойлова, режиссер всячески помогал молодой семье. Человеческая симпатия, которая установилась между ними, подарила Самойлову общение с С.М. Эйзенштейном, В.Я. Шебалиным, А.Н. Толстым, В.В. Софроницким, Л.И. Обориным и другими выдающимися деятелями культуры – друзьями и гостями В.Э. Мейерхольда. В.Э. Мейерхольд деликатно образовывал своего ученика, обогащая его ум и сердце.
В ГосТИМе Самойлов начал со ввода. Москвичи впервые увидели его в роли Петра («Лес» А.Н. Островского). Чутко уловив в природе таланта Самойлова яркий темперамент и склонность к героике, Мейерхольд воспитывал актера увлеченно и взыскательно. Молодой актер оказался трудолюбивым, жадным и терпеливым учеником. Он учился на репетициях Мастера и его гениальных показах, учился у своих коллег, партнеров, с упорством осваивал биомеханику. Творчески любознательный, артист окунулся в театральную жизнь Москвы: по юношеской привычке, с галерки пересмотрел весь репертуар МХАТа, спектакли вахтанговцев, был свидетелем оглушительного триумфа А.А. Остужева в роли Отелло. Восхищенный, эмоционально взволнованный, он учился у М.М. Тарханова, Б.В. Щукина, Р.Н. Симонова.
По предложению Мейерхольда блистательный актер романтической школы Ю.М. Юрьев, приглашенный в ТИМ на роль Кречинского, стал заниматься с актером, прививая ему манеру исполнения героико-романтического репертуара. Они подготовили роли Эрнани («Эрнани» В. Гюго) и Чацкого («Горе от ума» А.С. Грибоедова). С Юрьевым как партнером он встретился в спектакле «Свадьба Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, когда ввелся на роль провинциального романтика Нелькина (1936). В памяти осталась и работа с Мейерхольдом над ролью Григория Отрепьева («Борис Годунов» А.С. Пушкина), которая была не завершена.
В 1937 году Самойлов сыграл две долгожданные роли. Через два года после премьеры он выступил в роли Чацкого, заменив перешедшего в Малый театр М.И. Царева. В его исполнении Чацкий был не скептическим идеалистом, а страстным бунтарем. Работа над ролью Павки Корчагина («Одна жизнь» по роману «Как закалялась сталь» Н. Островского) стала этапной в творчестве актера на пути сценического воплощения современного героя. Актер избегал портретного сходства с Николаем Островским, а мать писателя отмечала, что он похож на сына – напористого, порывистого. Работая с Мейерхольдом над ролью Павла Корчагина, Самойлов выдержал своеобразный экзамен по мастерству пластической выразительности. Зритель не увидел спектакль «Одна жизнь» в связи с закрытием театра – в январе 1938 года ГосТИМ был ликвидирован. Самойлов переживал это событие болезненно, и когда в Малом театре, куда он был переведен, услышал о себе и других актерах ТИМа брошенное в шутку «формалисты пришли», из-за принципа ушел.
Имя В.Э. Мейерхольда было и остается для Евгения Самойлова свято. Четыре года рядом с Мастером стали периодом интенсивного постижения актерской профессии и своей индивидуальности. Испытав большое человеческое и творческое влияние гениального режиссера, Самойлов усвоил навсегда его заветы: непрерывное творческое обновление, работать и творить радостно и вдохновенно, учиться у жизни, расти интеллектуально, совершенствоваться – этот путь для художника бесконечен. Благодаря Мейерхольду Самойлов влюбился в удивительный и прекрасный мир искусства театра и оставался верен сцене всю жизнь. При расставании артист получил от учителя как ободряющее напутствие краткую характеристику в служебном документе: «Е.В. Самойлов – артист, который скоро займет на театральном фронте одно их первых мест в армии советских артистов».
Когда Самойлов оказался вне театра, его востребовал кинематограф, который давно возбуждал творческий интерес артиста. В труппе ГосТИМа работали первоклассные актеры, заслужившие известность и признание в кино, и первым среди них был И.В. Ильинский – настоящая звезда советского экрана. С разрешения В.Э. Мейрехольда Е. Самойлов в 1934 году начал сниматься в лирической комедии «Случайная встреча» у режиссера И.А. Савченко. В первом экранном образе Гриши Рыбина (1936) стали очевидны удивительное обаяние и жизнерадостное мироощущение артиста. В фильме «Том Сойер» режиссера Л. Френкеля он проявил талант характерного актера, создав образы братьев-близнецов адвоката и доктора Робинзонов. В 1937 году на Киевской киностудии шли съемки фильма «Щорс», но режиссер А.П. Довженко упорно искал «своего» Щорса. Один из его ассистентов видел Е. Самойлова в роли Корчагина на генеральной репетиции. Артиста пригласили на пробы, и все, что было накоплено в роли Павки Корчагина, он показал на первой и единственной пробе. Режиссер нашел артиста красивого и серьезного, в глазах которого он ощутил благородный ум и высокие чувства. Самойлов вновь обрел учителя, наставника в кино, гениального режиссера романтического направления, поэта и философа, великого по своим нравственным убеждениям человека – Александра Петровича Довженко.
Не принимая наигрыша и малейшей фальши, Довженко учил Самойлова в работе над ролью Щорса «идти от себя» в «предлагаемых обстоятельствах», чтобы лучше видеть и понять веления души своего героя. Только когда артист осознает чужой внутренний мир как собственную душу, он будет правдивым и искренним в перевоплощении, тогда ему поверят зрители. Это правило стало для артиста определяющим в творчестве, а в образе Щорса (1939) помогло донести до зрителей революционную романтику своего героя, страстную веру в прекрасное будущее, благородство души и силу интеллекта. Самойлов, подобно талантливому полководцу Щорсу, ворвался стремительно в кинематограф, завоевал зрительскую любовь и общественное признание. Его стали приглашать видные режиссеры. В 1940 году артист снялся у Г.Л. Рошаля в роли Кирилла Ждаркина («В поисках радости»), у Г.А. Александрова в роли инженера Лебедева («Светлый путь»).
В музыкально-поэтическом фильме «В шесть часов вечера после войны» (1944) Е. Самойлов исполнил роль лейтенанта Кудряшова, испытал подлинное творческое волнение в работе с легендарным режиссером И.А. Пырьевым, замечательными актерами М.А. Ладыниной, И.А. Любезновым. Съемочная группа работала на высоком подъеме в радостном предчувствии грядущей победы. Роль Кудряшова, одна из любимых у артиста, счастливо совпадала с его актерскими возможностями и человеческими идеалами, позволила вновь изведать полноту жизни в образе. Поэтически обобщенный образ героя войны, воина-защитника и победителя, одухотворенный обаянием личности артиста, был узнаваемым и желанным, как ожидаемая победа.
В начале 1945 года на экраны вышла комедия «Сердца четырех» режиссера К.К. Юдина, снятая еще до войны, в 1941 году. Герой Самойлова – лейтенант Колчин, мужественный, серьезный и ослепительно красивый, воспринимался зрителями военного времени как победитель.
Светлые, гармоничные, жизнеутверждающие образы, созданные артистом в комедиях 1940-х годов, вселяли оптимизм и надежду, укрепляли веру в добро, любовь и дружбу. Зрители влюблялись в героев Самойлова, и так же горячо они любили и их создателя, вознеся своего кумира на киноолимп. К нему пришла слава.
Кинематограф открыл притягательную силу творческой индивидуальности Самойлова, присущее ему неотразимое обаяние положительного героя. Артиста всегда привлекали открытые, внутренне чистые характеры. Большинство его экранных героев принадлежало к воинскому сословию разных эпох, и артисту удалось передать их героическую самоотверженность и патриотизм, благородство, доблесть и верность офицерской чести: лейтенант Бурунов («Адмирал Нахимов», режиссер В.П. Пудовкин, 1947), лейтенант Вишняк («Новый дом», режиссер В.Л. Корш-Саблин), М.Я. Фрунзе («Крушение эмирата», режиссер В.П. Басов, 1955), полковник Богун («300 лет тому…», режиссер В.М. Петров, 1956), полковник Бобров («Олеко Дундич», режиссер Л.Д. Луков, 1958), генерал Кэмброн («Ватерлоо», режиссер С.Ф. Бондарчук, 1970), Марченко («Они сражались за Родину», режиссер С.Ф. Бондарчук, 1975).
Любимым героем Самойлова в этой галерее стал генерал Скобелев («Герои Шипки», режиссер С.Д. Васильев, 1955). Изучение исторических документов, воспоминаний современников о Скобелеве помогло артисту осмыслить и полнее ощутить своеобразие его личности. Самойлов зажил в образе так же отважно и весело, как воевал храбрый генерал. За пышными усами военного мужа проглядывало порой лицо задиристого мальчишки. Памяти А.П. Довженко посвятил Самойлов образ полковника Александра Петровича («Зачарованная Десна», режиссер Ю.И. Солнцева, 1964). Самойлов снимался в ролях: декабрист Спешнев («Тарас Шевченко», режиссер И.А. Савченко, 1951), Аганин («Неоконченная повесть», режиссер Ф.М. Эрмлер, 1955), Нехлюдов («Незабываемый 1919-й», режиссер М. Чиаурели), Савва Абрамович («Крушение империи», режиссер В.П. Корш-Саблин). Последняя по времени работа в кино – Пимен («Борис Годунов», режиссер С.Ф. Бондарчук).
В 1940 году Самойлов вступил в труппу Театра революции, на сцене которого вскоре сыграл Германа («Таня» А. Арбузова) и Мортимера («Мария Стюарт» Ф. Шиллера, 1941). В 1943 году артист возвратился из Закавказья в Москву, в театр, переименованный после эвакуации в Московский театр драмы, который возглавил почти на четверть века Н.П. Охлопков, выдающийся режиссер, педагог и замечательный актер. Уже в первой совместной работе – спектакле «Сыновья трех рек» В.М. Гусева (1944), где Самойлов играл русского офицера Алексея, было очевидно, что они творческие единомышленники и как ученики Мейерхольда, и как приверженцы героико-романтического театра. С воодушевлением восприняв эстетическую программу Охлопкова, Самойлов стал его верным последователем на многие годы.
В 1947 году Охлопков поставил «Молодую гвардию» А.А. Фадеева – спектакль мощного патетического звучания и художественного воздействия, ставший явлением в истории советского театра. По-новому проявился талант Самойлова в роли Олега Кошевого. Стремясь к правдивому раскрытию психологического портрета своего героя, артист избегал играть изначально исключительного героя-лидера, показывая сложную эволюцию его характера: порывистый и нежный, скромный и вдумчивый юноша постепенно становится волевым и духовно зрелым бойцом, вожаком молодежного подполья. На сцене Театра драмы он чаще всего играл современников: Ладыгин («Обыкновенный человек» Л. Леонова), Рокоссовский («Великие дни» Н. Вирты), Ковалев («Хлеб наш насущный» Н. Вирты), Гончаров («Закон чести» А. Штейна), Серго Орджоникидзе («Путь в грядущее» Марвича). В классическом репертуаре в спектакле «Зыковы» М. Горького (1951) артист сосредоточился на личной драме Антипы, усилившей его духовный кризис.
В 1954 году, к 30-летнему юбилею театра (с этого года он называется Московский театр имени В. Маяковского) Охлопков осуществил свою давнюю мечту – поставил «Гамлета» У. Шекспира и доверил Самойлову главную роль. Охлопков считал героя Шекспира личностью, обладавшей высокими нравственными и гуманистическими идеалами, творчески развивая традицию сценического прочтения русских Гамлетов, мятежных, борющихся, родоначальником которой был великий трагик П.С. Мочалов.
Воплощая замысел режиссера, Самойлов «от себя» передал Гамлету пережитые чувства, размышления, вложил в него свое страстное сердце художника и «на сцене появился светлый человечный Гамлет». В образе Гамлета, проницательного психолога и мыслителя, мощно проявился темперамент мысли Самойлова, сумевшего создать героя высокого интеллекта, что позволило взыскательным критикам заявить о втором рождении артиста. Гамлет по праву принадлежит к выдающимся сценическим созданиям Е.В. Самойлова.
И вновь артист продолжал творческий поиск современных характеров: Суходолов («Сонет Петрарки» Н. Погодина, третья премия «Московской театральной весны», 1957), Антон («Дальняя дорога» А. Арбузова, третья премия «Московской театральной весны», 1958), Анохин («Время любить» Б. Ласкина), Громов («Аристократы» Н. Погодина), Платонов («Океан» А. Штейна), генерал Бондарев («Перебежчик» П. Тура).
Самойлов стал первым исполнителем роли Ясона («Медея» Еврипида, 1961) на российской сцене и впервые встретился с героем, целеустремленным в осуществлении лишь своих личных корыстных интересов. В творческом союзе с Охлопковым артист создал психологически точный характер убежденного эгоиста и современного прагматика, практичного и безнравственного. Взрывной темперамент и трагический пафос исполнения финальной сцены (отчаяние отца убитых детей) потрясали зрителей. В 1967 году в этом спектакле Самойлов был партнером знаменитой греческой трагической актрисы Аспасии Папатанасиу в роли Медеи.
Многогранный талант Самойлова плодотворно реализовался в спектаклях Охлопкова и достиг высоких сценических свершений. Считая годы работы с Охлопковым самыми счастливыми, артист благодарен своему учителю за подлинную радость творчества, которую Самойлов считает бесценной в работе.
После смерти Охлопкова в 1967 году Самойлов принял приглашение М.И. Царева, который неоднократно звал его в Малый театр, ставший с 1968 года его «домом». Труппа Малого театра всегда славилась самобытными талантами, поэтому Самойлов органически вошел в новый коллектив и принес на старейшую русскую сцену свое отточенное мастерство психологического реализма и неизменную любовь к пламенной романтике.
Своеобразие творческой индивидуальности артиста наиболее ярко раскрылось в сценическом прочтении русской классики. Одним из лучших и любимых созданий Самойлова является образ князя Ивана Петровича Шуйского в патетическом и монументальном спектакле режиссера Б.И. Равенских «Царь Федор Иоаннович» А.К. Толстого, (1973 первая премия «Московской театральной весны») до сих пор идущего на сцене Малого театра с неослабевающим успехом у зрителей.
Гордый, честный человек, доблестный воин-патриот, великодушная и страстная русская натура – герой Самойлова борется с Годуновым не за власть, а за патриархальный путь развития русского государства, который, по его убеждению, будет ему на благо. Он защищает свои идейные воззрения так же мужественно и открыто, как защищал Родину на полях битвы. «А как Самойлов играл Шуйского Ивана! Это потрясающий артист, просто до слез меня потрясал. Какой человек! Христианин, настоящий, живущий во Христе, такого образа я вообще больше не видел» – это зрительское восприятие композитора Г.В. Свиридова, автора музыки к спектаклю.
Сродни Шуйскому по своим нравственным убеждениям и душевным качествам. Захарьин-Юрьев («Смерть Иоанна Грозного» А.К. Толстого, 1995) Те же благородство, прямота, сердечность, но горестный опыт ближайшего свидетеля многолетних злодеяний Грозного и людских страданий делает его мудрым и сдержанным. Трагичен герой Самойлова, осознающий несостоятельность своего духовного наставничества Годунова.
С подлинной трагической силой играл Самойлов Игната Гордеева («Фома Гордеев» М. Горького, 1981), отца мятежного правдоискателя Фомы. Позднее раскаяние жизнелюбивого грешника и громадная любовь к сыну наполняли душу умирающего Игната тяжелым предвидением горькой судьбы Фомы.
Отыграв на сцене «дома Островского» четверть века, Самойлов впервые получил роль в пьесе великого драматурга. Роль Крутицкого («Не было ни гроша, да вдруг алтын» А.Н. Островского, 1993) с лихвой восполнила пробел в творческой биографии артиста. Герой Островского – в прошлом богатый чиновник, взяточник и алчный стяжатель, ныне тайный ростовщик и скряга, одержимый маниакальной страстью к деньгам, ради которых морит голодом и себя, и своих близких. Следуя за Островским, Самойлов предлагает оригинальную трактовку, подлинно новаторскую. Его Крутицкий при патологии своей скупости еще и высокомерный властолюбец, упивающийся тайным господством над людьми. Артист играет воинствующего скупца, у которого болезнь обостряется свойствами его порочной натуры. В его душе, охваченной темными страстями, нет места для угрызений совести. Герой Самойлова не кается, а безжалостно судит себя, приговаривая к смерти. Психологически сложный и колоритный образ Крутицкого является ярким свидетельством совершенного искусства перевоплощения артиста и его неувядаемого мастерства пластической выразительности.
В последние годы жизни, как когда-то в 1934 году, Е.В. Самойлов играл в «Лесе» А.Н. Островского, но уже старого лакея Карпа (1998), мудрого и сердечного, лукавого и ироничного, который живет в согласии со своей совестью, сохраняя человеческое достоинство. Образ Карпа был согрет личным обаянием артиста.
Всего за годы работы в Малом театре Е.В. Самойлов сыграл десятки ролей. В русской классике: Мастаков («Старик» М. Горького», 1971), Ватутин («Обрыв» И.А. Гончарова, 1992); в зарубежной классике: Андреа Дориа («Заговор Фиеско в Генуе» Ф. Шиллера, 1977), Камердинер герцога («Коварство и любовь» Ф. Шиллера, 1998). Работая над освоением современного драматургического материала, артист создал немало запоминающихся образов. Герои Самойлова, несмотря на возраст и сложные жизненные перипетии, не изменяли своим нравственным принципам, не утратили вкус к жизни, сохранив веру в человека, в добро. Таковы ученый Бармин («Человек и глобус» В. Лаврентьева, 1969), майор Васин («Русские люди» К.М. Симонова, 1975), заводской мастер Лев Сушкин («Золотые костры» И. Штока, 1975, приз «Серебряная маска» (1976) за лучшее исполнение мужской роли), рабочий-ветеран Платон Ангел («Дикий Ангел» А. Коломийца, 1982), Адольф («Незрелая малина» И. Губача, 1983) и др.
Е.В. Самойлову присвоены почетные звания народного артиста РСФСР (1954), народного артиста СССР (1974), лауреата Государственных премий СССР: 1941 – первой степени за фильм «Щорс» режиссер А.П. Довженко, 1939, 1946 – второй степени за фильм «В шесть часов вечера после войны» режиссер И.А. Пырьев, 1944, 1947 – первой степени за спектакль «Молодая гвардия» А.А. Фадеева, 1947.
Е.В. Самойлов является кавалером орденов Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.», «В память 800-летия Москвы», «За освоение целины», «Ветеран труда», «В память 850-летия Москвы»; значком «Отличник культурного шефства над Вооруженными Силами СССР».
С 1984 года Е.В. Самойлов неоднократно избирался ректоратом Театрального училища имени М.С. Щепкина на пост председателя Государственной экзаменационной комиссии.
Личная жизнь Е.В. Самойлова сложилось на редкость счастливо. В юности он встретил свою единственную любимую женщину – Зинаиду Ильиничну Левину, и они прожили в любви и дружбе 62 года. Окончив электротехнический институт, супруга Самойлова оставила профессию инженера, посвятив себя заботам о муже и детях. Натура одаренная, она прекрасно играла на рояле, страстно любила искусство театра и, радуясь творческим успехам мужа, как никто другой, знала и понимала, каких физических и духовных затрат требовала актерская профессия. Ее душевными усилиями сберегалась атмосфера дома, в котором было радостно, хорошо, гостеприимно. Редкие свободные часы Самойлов всегда любил проводить в кругу семьи.
Их дети, воспитанные в почитании искусства, унаследовали профессию отца. Татьяна Самойлова – народная артистка России, известная киноактриса. Ее незаурядный талант ярко проявился в роли Вероники («Летят журавли», режиссер М. Калатозов, 1957). Фильм вошел в золотой фонд российского кино, а на XI Каннском кинофестивале в 1958 году был уд остоен главного приза – Золотой пальмовой ветви. За исполнение роли Вероники молодую актрису наградили Гран-при фестиваля. Татьяне Самойловой посчастливилось воплотить на экране образ Анны Карениной («Анна Каренина» режиссер А. Зархи, 1967). Снималась в фильмах: «Неотправленное письмо» (режиссер М. Калатозов), «Альба Регия», «Возврата нет» (режиссер А. Салтыкова). На сцене театра киноактера играла Таню («Таня» А. Арбузова). Алексей Самойлов посвятил себя театру: работал в театре «Современник», с 1977 года – артист Малого театра. После смерти жены сын был самым близким другом и помощником в житейских делах.
После знакомства с С.Т. Коненковым Самойлов, заинтересованный его деревянной скульптурой, увлекся резьбой по дереву, отдавая любимому занятию часы досуга. Постоянно перечитывал произведения А.П. Чехова – любимого писателя. Любимыми композиторами были П.И. Чайковский и М.П. Мусоргский.
Скончался 17 февраля 2006 года.
Фильмография:
1936 — «Случайная встреча» («Месяц май», «Иринкин рекорд») 1939 — «В поисках радости» («Сказ о Никите Гурьянове») 1939 — «Щорс» 1940 — «Светлый путь» 1941 — «Сердца четырёх» 1943 — «Он ещё вернётся» 1944 — «В шесть часов вечера после войны» 1946 — «Адмирал Нахимов» 1947 — «Мальчик с окраины» 1948 — «Суд чести» 1951 — «Незабываемый 1919-й» 1951 — «Тарас Шевченко» 1954 — «Герои Шипки» 1955 — «Неоконченная повесть» 1957 — «К Чёрному морю» 1958 — «Олеко Дундич» 1960 — «Бессонная ночь» 1963 — «Живые и мёртвые» 1970 — «Крушение империи» 1971 — «Звёзды не гаснут» 1975 — «Они сражались за Родину» 1984 — «Берег его жизни» 1986 — «Борис Годунов» 1991 — «Осада Венеции» 1992 — «В начале было Слово»
Евгений Валерианович Самойлов скончался 17 февраля 2006 года в Москве, на 94-м году жизни. Похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.









 В нашем салоне действует бесплатная точка Wi-Fi
(выдается пароль)
В нашем салоне действует бесплатная точка Wi-Fi
(выдается пароль)
 В дни рождения и праздники вас ожидают приятные сюрпризы и скидки ;-)
В дни рождения и праздники вас ожидают приятные сюрпризы и скидки ;-)
 Часы работы: 10:00 - 18:00
Часы работы: 10:00 - 18:00